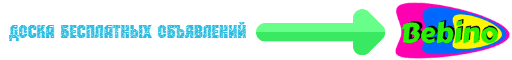Ухудшение экономической конъюнктуры в последние полгода не вызывает сомнений, даже если игнорировать переход уже привычного плача самых различных участников хозяйственной деятельности в отчаянный и безысходный вой.
Достаточно указать на единственную фундаментальную (помимо отказа либералов, беспрекословно подчиняющихся западным санкциям, от рыночного, биржевого механизма курсообразования) причину беспрецедентного укрепления рубля (более чем на четверть с ноября прошлого года) — сокращение импорта. А оно, в свою очередь, вызвано санкциями не Запада, а либералов отечественной сборки, управляющих социально-экономической сферой по заветам Гайдара, Чубайса и Ясина.
В результате сокращается потребление (а в условиях непрерывных «успехов» импортозамещения это ведет к сжатию потребительского импорта), а новые инвестиционные проекты крупный частный бизнес без значительной поддержки государства не начинает уже давно (что с учетом жизненного цикла проекта в этом году сокращает инвестиционный импорт).
Системное занижение масштабов роста цен позволяет лишь демонстрировать впечатляющие темпы роста ВВП, промышленного производства, инвестиций и даже реальных доходов населения и розничного товарооборота, но вот исправить реальность оно не в силах — точно так же, как во времена хрущевских и позднесоветских приписок.
Поэтому на реальность приходится реагировать — и, надо отдать должное, правительство Мишустина поддерживает экономику весьма энергично, последовательно и почти всеми реально имеющимися в сегодняшней внутриполитической ситуации возможностями.
Важнейшее направление этой поддержки — повышение эффективности бюджетных расходов.
Первый этап прошел еще во время коронабесия, когда перевод управления всей социально-экономической сферой на цифровую платформу резко повысил эффективность бюджетных расходов даже в условиях остальных пороков бюджетной политики (замораживание огромных средств на счетах бюджета, ненужные стране займы для финансирования крупнейших банков, утрата культуры разработки и тем более реализации крупных проектов, коррупция и т. д.).
Второй этап — авансирование все большей части расходов для поддержания корпораций в условиях недоступности кредита — реализуется последние три года.
Ее суть в том, что предприятие — поставщик нужной государству продукции в начале получает из бюджета в качестве аванса (то есть, по сути, беспроцентного займа) отсутствующие у него средства, необходимые для выполнения госзаказа.
При приемке произведенной продукции оно получает остаток — по сути дела, свою прибыль (и часть расходов, которые оно могло профинансировать само, из собственных средств). Разумеется, в реальности картина далеко не такая благостная и намного более сложная, но принцип именно таков: спасти поставщиков необходимой государству продукции от кредитной кабалы.
В январе-феврале текущего года резкий рост бюджетного дефицита встревожил многих. Действительно: за два месяца он составил 2,7 трлн.руб. (1,3% ВВП), более чем вдвое и в абсолютном, и в относительном выражении превысив уровень аналогичного периода 2024 года (1,13 трлн.руб. и 0,6% ВВП).
По отношению к ВВП дефицит первых двух месяцев оказался в 2,6 раза выше заложенного в бюджет уровня всего 2025 года (0,5% ВВП), что при традиционном скачке декабрьских бюджетных расходов и, соответственно, дефицита вызвало как минимум напряжение.
В начале двух прошлых лет также наблюдались высокие дефициты федерального бюджета из-за авансирования бюджетных расходов, однако они были значительно меньше по своим масштабам: в 2023 году дефицит наблюдался в январе, в 2024 — в феврале, но не оба первые месяца — с соответственно большим увеличением общего бюджетного дефицита. Доходы первых двух месяцев выросли по сравнению с аналогичным периодом 2024 года лишь на 6.3%, а расходы — более чем в 1,3 раза.
Необоснованность этих тревог при всей их формальной разумности вызвана игнорированием фундаментального по сравнению с началом двух прошлых лет ухудшением внешней для бюджета макроэкономической ситуации, вызванной качественным и внезапным удорожанием кредита.
Значительная часть государственной поддержки экономики, частично компенсирующей разрушительную либеральную финансовую политику, в целом заимствованную из кровавых 90-х, традиционно осуществляется в виде льготных кредитов. Разница между льготной ставкой и ставкой, предлагаемой часто злоупотребляющими своим фактически монопольным положением банками участникам рынка, финансируется из бюджета.
Федеральный бюджет на 2025 год был сверстан до очередного удорожания кредита: новый его виток был проведен либералами именно в такой момент, чтобы его последствия уже в принципе нельзя было учесть в бюджетных проектировках.
В результате средства, заложенные в бюджет 2025 года на поддержку российской экономики, оказались заведомо недостаточными даже для сохранения прежних объемов этой поддержки, не говоря уже об их наращивании. И это касается далеко не только пресловутых ипотеки и аграрно-промышленного комплекса (в котором, если верить аналитикам, при сохранении нынешней политики Россия уже в следующем году от экспорта зерна может вернуться к его импорту).
Насколько можно судить, правительство Мишустина нашло выход из ситуации в виде решительного изменения структуры государственной поддержки экономики, при котором значимость резко подорожавших и для бюджета, и для предприятий (так как бюджет не смог полностью компенсировать последствия повышения ключевой ставки) льготных кредитов была резко снижена.
Чтобы предприятия могли обойтись без запретительно подорожавшего кредита, они должны получить свои деньги раньше — путем авансирования своих расходов. Ведь даже предприятия ВПК и даже сейчас порой еще вынуждены брать кредит, чтобы иметь возможность произвести необходимую государству продукцию. Основная часть прибыли в этой ситуации шла, а порой еще и идет на погашение кредитов.
Когда же бюджет авансирует необходимые для работы предприятия расходы, последнее получает возможность обойтись без кредита, и отсутствие необходимости платить по нему абсурдно высокие проценты позволяет даже снизить его цену, сэкономив для бюджета существенные средства.
Вероятное расширение этой практики правительством Мишустина в начале 2025 года представляется совершенно оправданным и крайне позитивным действием, а бюджетный дефицит будет существенно снижен в течение года, как это происходило в совсем недавнем прошлом.
В марте этот процесс уже проявился: хотя по итогам I квартала доходы бюджета выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года менее чем на 4% при росте расходов почти на четверть, мартовский профицит превысил полтриллиона рублей, в результате чего дефицит бюджета был снижен до менее чем 2,2 трлн.руб. (1,0% ВВП).
Правда, даже дефицит первых двух месяцев — в 1,3% ВВП — кажется существенным разве что на фоне патологически заниженных бюджетных планов. Для экономики совершенно безопасны и кратно более высокие дефициты — особенно в условиях острого искусственно организованного денежного голода, как мы наглядно видели в конце 2022 года.
 Новости сегодня Последние новости: Актуальные новости России.
Новости сегодня Последние новости: Актуальные новости России.